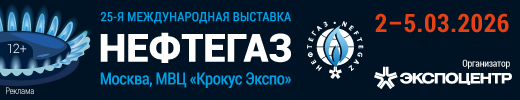Выпуск #3/2020
Н.Борисова
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ В ПЕРИОД ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 1941–1942 ГГ.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ В ПЕРИОД ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 1941–1942 ГГ.
Просмотры: 3649
DOI: 10.22184/2070-8963.2020.88.3.72.78
Яркие страницы в летопись героической обороны Севастополя (1941–1942 гг.) внесли военные и гражданские связисты, действовавшие совместно и слаженно. Статья подготовлена по материалам документального фонда Центрального музея связи имени А.С.Попова.
Яркие страницы в летопись героической обороны Севастополя (1941–1942 гг.) внесли военные и гражданские связисты, действовавшие совместно и слаженно. Статья подготовлена по материалам документального фонда Центрального музея связи имени А.С.Попова.
Теги: central museum of communications named after a.s.popov defense of sevastopol 1941-1942 history of communications history of communications troops история войск связи история связи оборона севастополя 1941-1942 гг. центральный музей связи имени а.с.попова
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ в период обороны Севастополя 1941–1942 гг.
Н.Борисова, к.т.н., заместитель директора
Центрального музея связи имени А.С.Попова /
Borisova@rustelecom-museum.ru
DOI: 10.22184/2070-8963.2020.88.3.72.78
Яркие страницы в летопись героической обороны Севастополя (1941–1942 гг.) внесли военные и гражданские связисты, действовавшие совместно и слаженно. Статья подготовлена по материалам документального фонда Центрального музея связи имени А.С.Попова (ЦМС).
О том, как была организована связь в осажденном городе, известно немного – специальные исследования не проводились, монографии не издавались. Некоторая информация о деятельности гражданских связистов в Севастополе стала доступна широкому кругу лиц, интересующихся данной темой, благодаря И.Т.Пересыпкину, возглавлявшему в годы войны Наркомат связи СССР. Работая над книгой "Связисты в годы Великой Отечественной войны" [1], он обратился к ветеранам и получил множество воспоминаний, часть из которых (в том числе о связи в городе-герое на Черном море), не вошедшая в книгу, была передана в ЦМС имени А.С.Попова. Часть из них музей опубликовал [2].
Ретроспективный обзор довоенного состояния городской связи в Севастополе и деятельности связистов города во время войны представлен в воспоминаниях бывшего начальника Крымского областного управления связи А.Евцихевича [3] и в "Исторической справке о работе связистов Севастополя в годы героической обороны города, 1941–1942 гг.", подготовленной бывшим начальником АТС и начальником службы связи штаба МПВО г. Севастополя П.А.Луневым [4–6]. Они вспоминают, что городская связь в Севастополе имела "особенности, которые определялись тем, что город являлся базой Черноморского военно-морского флота". Наркоматы связи и военно-морского флота заранее приняли меры, чтобы сделать связь в городе (особенно телефонную) неуязвимой в любой условиях. С этой целью в 1934 году в глубокой подземной штольне была смонтирована АТС. В мирное время отрабатывалось взаимодействие связистов этой АТС и Черноморского флота. 22 июня 1941 года, в первый день войны, в штольнях АТС разместился штаб флота во главе с командующим Ф.С.Октябрьским, и с этого момента городская станция приняла на себя обслуживание телефонной связью флагманского командного пункта (ФКП) командующего Севастопольским оборонительным районом (СОР).
О том, как была организована связь СОР в 1941–1942 годах, свидетельствует и ряд других документов, хранящихся в фондах ЦМС. Большой интерес представляет перечень частей и подразделений связи Черноморского флота, участвовавших в обороне Севастополя, составленный В.С.Гусевым (заместителем начальника связи ЧФ – начальником связи СОР) и М.А.Эпштейном (помощником начальника связи ЧФ и СОР) [7]. В сопроводительном письме в музей М.А.Эпштейн обращал особое внимание на то, что "список сверен с официальными источниками и документами и является достоверным". Связь в период обороны Севастополя в 1941–1942 годах обеспечивали следующие подразделения:
1. Оперативная группа отдела связи ЧФ в количестве 85 офицеров, старшин, матросов и вольнонаемных работников.
2. Район службы наблюдения и связи (СНиС) СОР:
3. Узел связи СОР (флагманского командного пункта командующего ЧФ и СОР):
4. Узел связи штаба ПВО СОР.
5. Узел связи штаба авиагруппы СОР.
6. Узел связи штаба береговой обороны СОР.
7. Узел связи штаба охраны водного района СОР.
8. Узел связи штаба отдельного дивизиона торпедных катеров.
9. Узел связи отдела вспомогательных судов СОР.
10. Почтовая база № 1007.
11. Линейная рота связи штаба авиагруппы.
12. Линейно-ремонтная рота штаба ПВО СОР.
13. Линейно-ремонтная рота штаба береговой обороны СОР.
14. Рота связи 7-й бригады морской пехоты.
15. Рота связи 8-й бригады морской пехоты.
16. Рота связи 9-й бригады морской пехоты.
17. Рота связи 79-й курсантской морской бригады.
18. Корректировочные посты артсвязи с кораблями ЧФ.
19. Шумопеленгаторные станции охраны водного района СОР.
20. Школы связи Черноморского флота.
21. АТС города Севастополя.
22. Ремонтная группа Связьмортреста (из Ленинграда).
Как следует из представленного списка, обеспечение связи управления частями СОР было возложено на целый ряд радио-, телефонных, телеграфных станций и узлов, что в период обороны дало положительные результаты в вопросах маневра средствами связи и их живучести, а также равномерной нагрузки на различные средства.
Максимальное количество сведений об организации связи в период обороны Севастополя содержится в выступлениях связистов – участников обороны в 1941–1942 годах на торжественном заседании, посвященном 25-летию героической обороны города (28–30 октября 1966 г.). Особое внимание все участники события обращали на слаженные действия флотских, армейских и гражданских связистов – "это был единый сплоченный коллектив, действующий в симфонии" [8]. Наиболее подробная информация о порядке взаимодействия перечисленных выше подразделений связи содержится в выступлении В.С.Гусева (заместителя начальника связи ЧФ – начальника связи СОР).
В ночь с 7 на 8 ноября 1941 года, после выхода из созданного немцами окружения, на Главную военно-морскую базу стали прибывать части Приморской армии. С их прибытием и передачей в оперативное подчинение армии морских бригад, полков и батальонов приказом военного совета флота вся связь (в том числе и линейные средства) была изъята из системы береговой обороны, переведена на армейскую систему и передана начальнику связи Приморской армии. Таким образом, подразделения и средства связи, оставшиеся в Главной базе после частичной ее эвакуации на Кавказ, полностью обеспечили оборону базы с суши. По воспоминаниям В.С.Гусева, "ввиду нахождения военного совета флота в Севастополе и перебазирования основного состава флота на Кавказ, неготовности к тому времени радиоцентра на ЗКП в Туапсе, на Узел связи в Севастополе пришлось временно возложить обеспечение боевого управления соединениями флота, связь военного совета с командованием Народного комиссариата обороны (Москва), Военно-морского флота (Москва, Куйбышев), а также с взаимодействующими фронтами Красной Армии" [8].
Какими же средствами связи располагал СОР? Отход наших частей из центрального и южного районов Крыма, первичная эвакуация из Керчи лишила линий проводной связи как с Москвой и Куйбышевым, так и с базами флота на Кавказе. И с этого момента до окончания обороны боевое управление флотом обеспечивалось только радиосредствами, за исключением небольшого периода действия спрямленного в районе мыса Такиль подводного кабеля.
История с использованием этого кабеля наглядно свидетельствует об энергичных действиях связистов в критических ситуациях. Высокая нагрузка на радиосредства заставила их принять решение о задействовании проложенного задолго до войны "гуттаперчевого кабеля". Об этом было доложено начальнику связи флота Громову с просьбой дать указание начальнику района СНиС Керченской военно-морской базы (КВМБ) Наумову приступить к испытанию. Связь на участке Севастополь – Балаклава была подготовлена районом СНиС совместно с Министерством связи. Таким образом, в декабре 1941 года Севастополь получил прямой провод для связи с Большой землей. Однако обстановка в Крыму складывалась не в пользу наших войск. Когда они оставляли Керчь, возникла проблема: как сохранить этот кабель. Связисты КВМБ предложили его "спрямить". С этой целью, по воспоминаниям очевидцев, "в район мыса Такиль был отправлен кабельный корабль отдела связи; там была уже кабельная партия, которая срочно спрямила этот кабель, вывела его в море и опустила на глубину, а в будке кабель был вырублен для того, чтобы создать видимость уничтожения" [8].
Кабельная связь осталась действующей, и ее использовали для отправки телеграфных сообщений на Кавказ вплоть до высадки десанта в районе Феодосии в конце декабря 41-го. Тогда в результате бомбежек кабель был поврежден, но вернуться к восстановительным работам оказалось уже невозможно.
Таким образом, радиосвязь к началу 42-го осталась единственным оперативным способом связи СОР с Большой землей. Не меньшее значение имели радиосредства и для организации связи внутри СОР, так как в условиях вражеских налетов и обстрелов кабельная связь часто выходила из строя.
Об особом значении радиосвязи в СОР вспоминал А.Н.Макаренко (бывший дежурный по связи КП СОР): "Как известно, большую роль играла проводная связь в Севастополе, этого отнять нельзя, но основное управление силами, ведущими бой, как сухопутными, так и особенно нашим Черноморским славным флотом, линкорами, крейсерами, эсминцами <…>, осуществлялось средствами радиосвязи. Каждый выход корабля с Главной базы, каждый приход корабля и подводной лодки по указанию начальника связи Севастопольского района мы, офицеры оперативно-дежурной связи, сопровождали посредством тесного контакта со связистами кораблей, командирами БЧ-IV. Даже больше скажу, когда основные средства связи были эвакуированы на Кавказ и там развертывалось строительство приемных и передающих радиоцентров, несмотря на сложившуюся обстановку в Севастополе <…> корабельные связисты <…> говорили, что Туапсе не слышим, Поти тоже плох, но Главную базу Севастополь слышим" [8].
Таким образом, перед связистами стояла задача не только обеспечить командование СОР устойчивой, живучей и скрытой связью с командованием, но и организовывать связь управления внутри оборонительного района. Требование вице-адмирала Октябрьского сводилось к следующему: "Дайте мне надежную связь вплоть до каждого батальона".
О сложностях организации связи внутри СОР вспоминал М.А.Эпштейн – бывший помощник начальника связи ЧФ по скрытой связи: "Армия привыкла работать в микрофонном режиме абсолютно открыто, а мы вынуждены были поставить наши флотские железные требования, что связь должна быть не только быстрой и оперативной, но скрытной, потому что фашистские войска располагали исключительно широкой возможностью радиоперехвата, и мы не могли позволить себе такую роскошь, находясь не в маневренной, а, по сути говоря, в позиционной войне, давать возможность противнику знать обстановку даже о штабе батальона. В частности, службе специальной связи пришлось решать эту задачу в исключительно сложных условиях. Мы должны были удовлетворить реальные возможности батальона, когда где-то в какой-то небольшой земляночке, а может быть часто в окопе, накрывшись плащ-палаткой, работал этот специалист, и так, чтобы информацию, эту же информацию, мог получить и наш флагман и любой командир соединения" [8].
По словам М.А.Эпштейна, приходилось применять "нечеловеческие усилия" для расшифровки сообщений: "Мы имели дело с очень сильным противником, который те помехи, к которым мы привыкли в мирное время, он их нам не чинил. Там не было помех.
Допустим, забивали бы нашу радиосвязь, чтобы мы не могли принять радиограмму, но нет, – радиограммы коверкались, так что где-то середина, которая должна быть началом, где-то начало должно быть концом" [8]. Проблема осложнялась тем, что в условиях военного времени нельзя было запрашивать повтор сообщения, так как это могло дать противнику возможность запеленговать источник сообщения.
Когда был организован СОР, пришлось пересмотреть действующую схему связи, оповещения и донесения на флоте. Был установлен лимит радиообмена. В оперативных сводках штаба СОР стали передаваться не все, а только обобщенные за день данные. Это дало возможность "несколько разгрузить не только центральные органы связи, но и корабельные, лодочные (особенно лодочные), от ненужного потока радиообмена, который в данную минуту для них решающей роли не играл". Жесткий лимит радиообмена в сутки в еще большей степени распространялся на тех, кто не был непосредственно подчинен Октябрьскому: штаб партизан, комитет НКВД и еще ряд частей.
По воспоминаниям М.А.Эпштейна, это была мера, без которой "забили бы эфир", а связисты не справились бы с основными задачами по обеспечению боевой связи.
Большая роль в организации связи СОР принадлежала СНиС. По воспоминаниям М.А.Добрушина, бывшего начальника штаба района СНиС, к началу войны (до мобилизационного развертывания) район СНиС имел следующую структуру.
Во-первых, это были участки службы наблюдения и связи, которые следили за морским простором в пределах Крымского полуострова (Евпаторийский, Севастопольский, Ялтинский и Керченский участки).
Кроме того, в состав района СНиС входили подразделения: электролинейная служба (линейно-ремонтная рота и подводно-кабельная партия), узел связи (приемные и передающие открытые центры), центральная телефонная станция, военная голубиная станция. Органом управления являлся штаб района СНиС. С момента прорыва врага на полуостров и последующего отхода под давлением противника наших частей из Одесской военно-морской базы район СНиС "развернул свои мобилизационные календари, то есть перешел на структуру перестройки обеспечения связи непосредственно
в обороне Севастополя" [8].
Семь постов СОР было организовано с учетом полного просмотра морского подхода к Главной военно-морской базе и действий противника на сухопутном участке фронта.
Для лучшего освещения обстановки по всей дуге Севастопольского фронта выделили три береговых участка на переднем крае обороны и морской участок, расположенный вдоль морского побережья между Балаклавой и Бельбекской долиной. На центральном командном пункте (ЦКП) была организована дежурная служба (ДС), которая руководила деятельностью постов, освещала обстановку и вела специальную карту, проводила доклады ответственного дежурного (ОД) флота и ОД Приморской армии по донесениям постов. ДС имела прямые связи с постами вдоль побережья, а также с техническими постами наблюдения охраны водного района (ОВРа) Главной базы. На организацию этих постов поступил личный состав отошедших в Севастополь Евпаторийского и Ялтинского участков СНиС.
Шумопеленгаторная станция ОВРа Главной базы (в районе Херсонеса) с аппаратурой, размещенной в здании маяка, имела достаточно хорошие тактико-технические данные. С помощью этой станции удавалось обнаруживать работу механизмов подводных и надводных кораблей, а также торпедоносцев противника.
По мнению М.А.Добрушина, бывшего начальника штаба района СНиС, "принятая в обороняющейся Главной военно-морской базе система наблюдения, в которую входили посты СНиС, шумопеленгаторные станции, теплопроводные станции на Константиновском равелине и Херсонесском маяке, посты наблюдения за воздушным десантом и посты наблюдения за минными постановками, объединенные в одну систему центрального управления, были серьезным подспорьем в понимании обстановки на Севастопольском плацдарме военных действий и полностью себя оправдали" [8].
С другой стороны, бывший начальник связи ПВО флота В.С.Десна отмечал, что служба наблюдения, находясь на защищаемом севастопольцами маленьком клочке земли, чисто технически не могла оперативно обнаруживать противника и передавать информацию, согласно которой в воздух поднималась истребительная авиация. По его мнению, "главная тяжесть в решении этой задачи легла на две радиолокационные станции РУС‑2, располагавшиеся одна в бухте Круглая, другая на мысе Фиолент" [8].
Командный пункт (КП) ПВО имел со всеми соединениями связь как по радио (для оповещения о воздушном противнике), так и проводную. Проводные средства использовались между КП частей ПВО и батарей.
Что касается воздушного противодействия противнику, то следует заметить, что КП 62-й истребительной бригады ВВС территориально находился там же, где КП ПВО. Связисты батальона, обслуживающего штаб ВВС, решали две группы задач: первая – обеспечение командных пунктов проводной связью с тем, чтобы вовремя получать приказы с КП флота и КП полка; вторая – обеспечение надежной радиосвязью самолетов-истребителей. О том, в каких условиях, пришлось работать связистам авиации, вспоминал бывший старший радиотехник 9-го ИАП ВВС И.П.Кудрявцев. По его словам, все довоенные истребители, выпущенные нашей промышленностью, на борту не имели радиостанций. "В этих трудных условиях, здесь в Севастополе, пришлось своими силами оборудовать эти самолеты.
Первые радиостанции, назывались они РСИ‑3, были батарейного типа. Питание осуществлялось от батарей БА‑60, и стояли две баночки аккумулятора НТН‑10. Чтобы иметь бесперебойную связь, на земле радиотехникам, механикам нужно было так продумать организацию электропитания, чтобы в полете радиостанция не отказала" [8].
В целом характеризуя связь в СОР, нельзя не отметить, что были приняты беспрецедентные меры, направленные на повышение ее живучести. В случае потери приемных и передающих радиоцентров предусматривалось изменение схемы организации СОР. Эта схема "была доложена начальнику связи флота Громову на Кавказ" с просьбой гибко подходить к приему сигналов из Севастополя и оказывать необходимую помощь [8].
В период обороны, особенно с мая 42-го, большие усилия потребовались для рассредоточения технических средств радиосвязи, их укрытие от воздействия противника.
Для всех служб связи был проработан порядок действий в критических ситуациях. Личный состав был нацелен "на быструю замену один другого без особых сокращений связи и радиообмена вообще". В отношении восстановления разрушений кабельных линий связи, наносимых противником, и особо в период штурмов, "действовала формула: что за день разрушено, за ночь должно быть восстановлено" [8]. В этих условиях исключительный героизм проявляли гражданские и военные кабельщики. По воспоминаниям очевидцев, предельное напряжение для них настало в период третьего наступления немцев на Севастополь (июнь 1942 г.). "Авиация противника производила массированные налеты на город, непрерывно, ежедневно с 4 до 21 часа с числом сбрасываемых бомб, не поддающимся учету. Однако в этих тяжелых условиях все повреждения оперативных абонентов устранялись к 4 утра" [8].
Обстановка в период обороны города неоднократно складывалась такая, что военным и гражданским связистам, кроме выполнения своих основных обязанностей, приходилось участвовать в боевых действиях. Особенно много таких случаев имело место в июне 42-го.
Например, 19 июня группа связистов района СНиС, выполняя задание по обеспечению связью воинских частей, занимавших оборону на Мекензиевых горах, одновременно вела в течение двух суток бой с гитлеровцами, просочившимися в бухту Голландия. В казармах этой бухты находился коммутатор ЦБ 100 × 2, который поддерживал связь частей из штаба Приморской армии, расположенных на Северной стороне. Этот командно-измерительный пункт (КИП) контролировал также кабельную емкость перехода через Северную бухту.
Обслуживание КИП и телефонной станции было возложено на Севастопольский район СНиС. В эту группу входили также связисты Приморской армии и гражданские телефонистки.
В последние дни июня 42-го, наиболее драматический период обороны города, происходила реорганизация связи, предусматривавшая передислокацию оборудования.
Вопрос о том, как это было, требует отдельного исследования и формирования научно-обоснованной картины происходившего. Анализ информации из воспоминаний ветеранов-очевидцев событий показал, что многое не стыкуется. Поэтому на данный момент можно привести только некоторые сведения, не претендующие на высокую достоверность.
На рассвете 26 июня наши части отходили под воздействием противника, который уже вышел к тому времени на Северную сторону. Связистам пришлось оставить защищенный приемный центр в Инкерманском монастыре и полностью перевести приемные радиовахты на ЦКП в штольню АТС-175. Враг продвигался, и защищенный передающий центр мог оказаться захваченным. Поэтому было отдано распоряжение о демонтаже центра и вывозе материальной части в район 35-й береговой батареи (ББ). В 2 часа ночи 29 июня это распоряжение было выполнено полковником Бибиком и начальником передающего центра капитан-лейтенантом Селивановым, а личный состав перешел на запасный передающий центр, откуда и продолжил работу по обеспечению связи СОР. Об этом сообщили начальнику связи флота, а также закрыли ряд связей, которые тогда Севастополю были уже не нужны, передав их на запасной командный пункт (ЗКП) в г. Туапсе.
Приказ о начале вывоза дополнительных радиосредств на 35-ю ББ был получен 28 июня, старшим назначили офицера отдела связи флота Б.Д.Островского. По его воспоминаниям, "была выделена грузовая автомашина, человек 8 или 10 радистов и телеграфистов, материальная часть; было приказано между 18–19 часами быть на 35‑й батарее, развернуть примерно шесть радиовахт для связи с основными направлениями; <…> мы благополучно прибыли, <…> своевременно развернули связи, установили связь со ставкой Верховного Главнокомандования, с Краснодаром; прибыл командующий флотом, весь военный совет, прибыл начальник связи СОР" [8]. Переезду командного состава с ФКП на 35-ю ББ предшествовала передача сообщения по аппарату Морзе о готовности средств связи на ЗКП.
К этому времени у защитников города стали заканчиваться боеприпасы. По воспоминаниям М.А.Эпштейна, около 23 часов 30 июня из Ставки Верховного Главнокомандующего была получена шифрограмма о том, что Севастополь сыграл свою историческую боевую роль и что военному совету разрешено переместиться на Кавказ.
О предстоящей трагедии ни военнослужащие, ни местные жители не догадывались. Как вспоминал потом кабельщик А.И.Буйлов, тогда молодой паренек, "настроение было бодрое, и, несмотря на то, что фронт все ближе придвигался к городу, все мы считали, что город немцы не возьмут" [9]. Но утром 30 июня линейные монтеры, выйдя на устранение повреждений кабеля, обнаружили, что по всем парам в распределительном шкафу пропал зуммер готовности. Только тогда они узнали, что АТС не работает, бои идут в городе, и руководство СОРа во главе с командующим ЧФ Октябрьским уже покинуло основной командный пункт (ФКП), находившийся в защищенном сооружении АТС, и переехало на ЗКП на 35-й ББ. Туда же подтягивались все отступавшие войска, теснимые противником.
30 июня к срочной работе по переключению линий связи на ЗКП, осуществляемой военными связистами Приморской армии, присоединились гражданские линейные монтеры. Из воспоминаний гражданских связистов следует, что в последние дни обороны "центр города (вернее, весь город, кроме окраины) был пуст" и, казалось, что "кроме связистов, в городе никого не было: идет группа связистов по абсолютно пустому городу".
30 июня утром на старом ФКП осталась оперативная группа во главе с начальником штаба СОРа капитаном 1-го ранга Васильевым и гражданские связисты. Весь этот день прошел в переключении связей ЗКП на 35-ю батарею. Многие городские связи уже были не нужны, поэтому постепенно их начали выключать. В полдень 30 июня бои уже шли в районе Малахова кургана, на Куликовом поле, вдоль Лабораторного шоссе – на расстоянии менее одного километра от станции. Начальник АТС П.А.Лунев, обсудив в 15:00 текущую обстановку с секретарем горкома ВКП(б), председателем городского комитета обороны Б.А.Борисовым, получил разрешение на уничтожение объекта. С этим решением согласился остававшийся на объекте начальник штаба СОРа Васильев. Немцы, видимо, знали, где расположен штаб, и вход на ФКП находился под постоянным пулеметным обстрелом.
Прибывшим по приказу начальника АТС на уничтожение объекта линейным монтерам, "где согнувшись, а где ползком по запасным ходам сообщения", удалось проникнуть на объект. Вместе с техниками станции кувалдами и кирками они разбили оборудование всех трех залов АТС. Не уничтожили только кросс, так как через него шли связи на 35‑ю батарею.
После этого дизелисты с затонувшего теплохода "Абхазия", которые после гибели корабля обслуживали дизельную электростанцию на АТС, выпустили из запасных резервуаров 16 т солярки и забросали вход в ФКП связками гранат. На АТС запылал пожар. В это время немцы находились совсем рядом – на другой стороне Южной бухты и справа у вокзала.
После того, как командование флота убыло, старшим морским начальником был назначен капитан 3‑го ранга Ильичев из штаба флота. ЗКП продолжал держать связь с Новороссийском. Последняя радиограмма из Новороссийска предписывала кораблям и подводным лодкам, находящимся в море, идущим в Севастополь, "освободиться от груза, от боезапаса и других грузов, которые везли в Севастополь, подойти к 35‑й ББ и забрать людей". Оставался специалист открытой связи старший лейтенант Гусаров, он эту телеграмму расшифровал и "всем стало все ясно" [8].
Подводя итог, следует привести слова Б.Д.Островского, который в составе группы офицеров отдела связи во главе с В.С.Гусевым участвовал в обороне Севастополя с первого до последнего дня: "Насыщенность связи, которая была во время обороны Севастополя, была очень большой, и, несмотря на то, что у нас не было достаточного количества техники, достаточного количества материальной части, благодаря правильному маневрированию средствами связи и правильной организации связи все-таки связь <…> выполнила свои задачи" [8].
ЛИТЕРАТУРА
Пересыпкин И.Т. Связисты в годы Великой Отечественной. – М.: Связь, 1972.
Связь на Украине в годы Великой Отечественной / Сост.: Н.А.Борисова, Н.И.Лосич, О.В.Фролова и др. – СПб.: Центральный музей связи имени А.С.Попова. 2013. 464 с.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 309.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 302.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 305.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 536.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 513.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 307.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 310.
Н.Борисова, к.т.н., заместитель директора
Центрального музея связи имени А.С.Попова /
Borisova@rustelecom-museum.ru
DOI: 10.22184/2070-8963.2020.88.3.72.78
Яркие страницы в летопись героической обороны Севастополя (1941–1942 гг.) внесли военные и гражданские связисты, действовавшие совместно и слаженно. Статья подготовлена по материалам документального фонда Центрального музея связи имени А.С.Попова (ЦМС).
О том, как была организована связь в осажденном городе, известно немного – специальные исследования не проводились, монографии не издавались. Некоторая информация о деятельности гражданских связистов в Севастополе стала доступна широкому кругу лиц, интересующихся данной темой, благодаря И.Т.Пересыпкину, возглавлявшему в годы войны Наркомат связи СССР. Работая над книгой "Связисты в годы Великой Отечественной войны" [1], он обратился к ветеранам и получил множество воспоминаний, часть из которых (в том числе о связи в городе-герое на Черном море), не вошедшая в книгу, была передана в ЦМС имени А.С.Попова. Часть из них музей опубликовал [2].
Ретроспективный обзор довоенного состояния городской связи в Севастополе и деятельности связистов города во время войны представлен в воспоминаниях бывшего начальника Крымского областного управления связи А.Евцихевича [3] и в "Исторической справке о работе связистов Севастополя в годы героической обороны города, 1941–1942 гг.", подготовленной бывшим начальником АТС и начальником службы связи штаба МПВО г. Севастополя П.А.Луневым [4–6]. Они вспоминают, что городская связь в Севастополе имела "особенности, которые определялись тем, что город являлся базой Черноморского военно-морского флота". Наркоматы связи и военно-морского флота заранее приняли меры, чтобы сделать связь в городе (особенно телефонную) неуязвимой в любой условиях. С этой целью в 1934 году в глубокой подземной штольне была смонтирована АТС. В мирное время отрабатывалось взаимодействие связистов этой АТС и Черноморского флота. 22 июня 1941 года, в первый день войны, в штольнях АТС разместился штаб флота во главе с командующим Ф.С.Октябрьским, и с этого момента городская станция приняла на себя обслуживание телефонной связью флагманского командного пункта (ФКП) командующего Севастопольским оборонительным районом (СОР).
О том, как была организована связь СОР в 1941–1942 годах, свидетельствует и ряд других документов, хранящихся в фондах ЦМС. Большой интерес представляет перечень частей и подразделений связи Черноморского флота, участвовавших в обороне Севастополя, составленный В.С.Гусевым (заместителем начальника связи ЧФ – начальником связи СОР) и М.А.Эпштейном (помощником начальника связи ЧФ и СОР) [7]. В сопроводительном письме в музей М.А.Эпштейн обращал особое внимание на то, что "список сверен с официальными источниками и документами и является достоверным". Связь в период обороны Севастополя в 1941–1942 годах обеспечивали следующие подразделения:
1. Оперативная группа отдела связи ЧФ в количестве 85 офицеров, старшин, матросов и вольнонаемных работников.
2. Район службы наблюдения и связи (СНиС) СОР:
- Управление района СНиС.
- Севастопольский морской участок СНиС.
- Сухопутный участок СНиС.
- 241-я линейно-ремонтная рота.
- Подводно-кабельная партия.
- Морская телефонная станция.
3. Узел связи СОР (флагманского командного пункта командующего ЧФ и СОР):
- Наземный приемный радиоцентр (Молочная ферма).
- Подземный приемный радиоцентр (ФКП командующего ЧФ и СОР).
- Подземный передающий радиоцентр (Инкерман).
- Наземный передающий радиоцентр (Килен-бухта).
- Временный приемный радиоцентр (Инкерманский монастырь).
- Запасный передающий радиоцентр (старые казематы Нахимовских батарей).
- Телеграфный центр (ФКП командующего ЧФ и СОР).
4. Узел связи штаба ПВО СОР.
5. Узел связи штаба авиагруппы СОР.
6. Узел связи штаба береговой обороны СОР.
7. Узел связи штаба охраны водного района СОР.
8. Узел связи штаба отдельного дивизиона торпедных катеров.
9. Узел связи отдела вспомогательных судов СОР.
10. Почтовая база № 1007.
11. Линейная рота связи штаба авиагруппы.
12. Линейно-ремонтная рота штаба ПВО СОР.
13. Линейно-ремонтная рота штаба береговой обороны СОР.
14. Рота связи 7-й бригады морской пехоты.
15. Рота связи 8-й бригады морской пехоты.
16. Рота связи 9-й бригады морской пехоты.
17. Рота связи 79-й курсантской морской бригады.
18. Корректировочные посты артсвязи с кораблями ЧФ.
19. Шумопеленгаторные станции охраны водного района СОР.
20. Школы связи Черноморского флота.
21. АТС города Севастополя.
22. Ремонтная группа Связьмортреста (из Ленинграда).
Как следует из представленного списка, обеспечение связи управления частями СОР было возложено на целый ряд радио-, телефонных, телеграфных станций и узлов, что в период обороны дало положительные результаты в вопросах маневра средствами связи и их живучести, а также равномерной нагрузки на различные средства.
Максимальное количество сведений об организации связи в период обороны Севастополя содержится в выступлениях связистов – участников обороны в 1941–1942 годах на торжественном заседании, посвященном 25-летию героической обороны города (28–30 октября 1966 г.). Особое внимание все участники события обращали на слаженные действия флотских, армейских и гражданских связистов – "это был единый сплоченный коллектив, действующий в симфонии" [8]. Наиболее подробная информация о порядке взаимодействия перечисленных выше подразделений связи содержится в выступлении В.С.Гусева (заместителя начальника связи ЧФ – начальника связи СОР).
В ночь с 7 на 8 ноября 1941 года, после выхода из созданного немцами окружения, на Главную военно-морскую базу стали прибывать части Приморской армии. С их прибытием и передачей в оперативное подчинение армии морских бригад, полков и батальонов приказом военного совета флота вся связь (в том числе и линейные средства) была изъята из системы береговой обороны, переведена на армейскую систему и передана начальнику связи Приморской армии. Таким образом, подразделения и средства связи, оставшиеся в Главной базе после частичной ее эвакуации на Кавказ, полностью обеспечили оборону базы с суши. По воспоминаниям В.С.Гусева, "ввиду нахождения военного совета флота в Севастополе и перебазирования основного состава флота на Кавказ, неготовности к тому времени радиоцентра на ЗКП в Туапсе, на Узел связи в Севастополе пришлось временно возложить обеспечение боевого управления соединениями флота, связь военного совета с командованием Народного комиссариата обороны (Москва), Военно-морского флота (Москва, Куйбышев), а также с взаимодействующими фронтами Красной Армии" [8].
Какими же средствами связи располагал СОР? Отход наших частей из центрального и южного районов Крыма, первичная эвакуация из Керчи лишила линий проводной связи как с Москвой и Куйбышевым, так и с базами флота на Кавказе. И с этого момента до окончания обороны боевое управление флотом обеспечивалось только радиосредствами, за исключением небольшого периода действия спрямленного в районе мыса Такиль подводного кабеля.
История с использованием этого кабеля наглядно свидетельствует об энергичных действиях связистов в критических ситуациях. Высокая нагрузка на радиосредства заставила их принять решение о задействовании проложенного задолго до войны "гуттаперчевого кабеля". Об этом было доложено начальнику связи флота Громову с просьбой дать указание начальнику района СНиС Керченской военно-морской базы (КВМБ) Наумову приступить к испытанию. Связь на участке Севастополь – Балаклава была подготовлена районом СНиС совместно с Министерством связи. Таким образом, в декабре 1941 года Севастополь получил прямой провод для связи с Большой землей. Однако обстановка в Крыму складывалась не в пользу наших войск. Когда они оставляли Керчь, возникла проблема: как сохранить этот кабель. Связисты КВМБ предложили его "спрямить". С этой целью, по воспоминаниям очевидцев, "в район мыса Такиль был отправлен кабельный корабль отдела связи; там была уже кабельная партия, которая срочно спрямила этот кабель, вывела его в море и опустила на глубину, а в будке кабель был вырублен для того, чтобы создать видимость уничтожения" [8].
Кабельная связь осталась действующей, и ее использовали для отправки телеграфных сообщений на Кавказ вплоть до высадки десанта в районе Феодосии в конце декабря 41-го. Тогда в результате бомбежек кабель был поврежден, но вернуться к восстановительным работам оказалось уже невозможно.
Таким образом, радиосвязь к началу 42-го осталась единственным оперативным способом связи СОР с Большой землей. Не меньшее значение имели радиосредства и для организации связи внутри СОР, так как в условиях вражеских налетов и обстрелов кабельная связь часто выходила из строя.
Об особом значении радиосвязи в СОР вспоминал А.Н.Макаренко (бывший дежурный по связи КП СОР): "Как известно, большую роль играла проводная связь в Севастополе, этого отнять нельзя, но основное управление силами, ведущими бой, как сухопутными, так и особенно нашим Черноморским славным флотом, линкорами, крейсерами, эсминцами <…>, осуществлялось средствами радиосвязи. Каждый выход корабля с Главной базы, каждый приход корабля и подводной лодки по указанию начальника связи Севастопольского района мы, офицеры оперативно-дежурной связи, сопровождали посредством тесного контакта со связистами кораблей, командирами БЧ-IV. Даже больше скажу, когда основные средства связи были эвакуированы на Кавказ и там развертывалось строительство приемных и передающих радиоцентров, несмотря на сложившуюся обстановку в Севастополе <…> корабельные связисты <…> говорили, что Туапсе не слышим, Поти тоже плох, но Главную базу Севастополь слышим" [8].
Таким образом, перед связистами стояла задача не только обеспечить командование СОР устойчивой, живучей и скрытой связью с командованием, но и организовывать связь управления внутри оборонительного района. Требование вице-адмирала Октябрьского сводилось к следующему: "Дайте мне надежную связь вплоть до каждого батальона".
О сложностях организации связи внутри СОР вспоминал М.А.Эпштейн – бывший помощник начальника связи ЧФ по скрытой связи: "Армия привыкла работать в микрофонном режиме абсолютно открыто, а мы вынуждены были поставить наши флотские железные требования, что связь должна быть не только быстрой и оперативной, но скрытной, потому что фашистские войска располагали исключительно широкой возможностью радиоперехвата, и мы не могли позволить себе такую роскошь, находясь не в маневренной, а, по сути говоря, в позиционной войне, давать возможность противнику знать обстановку даже о штабе батальона. В частности, службе специальной связи пришлось решать эту задачу в исключительно сложных условиях. Мы должны были удовлетворить реальные возможности батальона, когда где-то в какой-то небольшой земляночке, а может быть часто в окопе, накрывшись плащ-палаткой, работал этот специалист, и так, чтобы информацию, эту же информацию, мог получить и наш флагман и любой командир соединения" [8].
По словам М.А.Эпштейна, приходилось применять "нечеловеческие усилия" для расшифровки сообщений: "Мы имели дело с очень сильным противником, который те помехи, к которым мы привыкли в мирное время, он их нам не чинил. Там не было помех.
Допустим, забивали бы нашу радиосвязь, чтобы мы не могли принять радиограмму, но нет, – радиограммы коверкались, так что где-то середина, которая должна быть началом, где-то начало должно быть концом" [8]. Проблема осложнялась тем, что в условиях военного времени нельзя было запрашивать повтор сообщения, так как это могло дать противнику возможность запеленговать источник сообщения.
Когда был организован СОР, пришлось пересмотреть действующую схему связи, оповещения и донесения на флоте. Был установлен лимит радиообмена. В оперативных сводках штаба СОР стали передаваться не все, а только обобщенные за день данные. Это дало возможность "несколько разгрузить не только центральные органы связи, но и корабельные, лодочные (особенно лодочные), от ненужного потока радиообмена, который в данную минуту для них решающей роли не играл". Жесткий лимит радиообмена в сутки в еще большей степени распространялся на тех, кто не был непосредственно подчинен Октябрьскому: штаб партизан, комитет НКВД и еще ряд частей.
По воспоминаниям М.А.Эпштейна, это была мера, без которой "забили бы эфир", а связисты не справились бы с основными задачами по обеспечению боевой связи.
Большая роль в организации связи СОР принадлежала СНиС. По воспоминаниям М.А.Добрушина, бывшего начальника штаба района СНиС, к началу войны (до мобилизационного развертывания) район СНиС имел следующую структуру.
Во-первых, это были участки службы наблюдения и связи, которые следили за морским простором в пределах Крымского полуострова (Евпаторийский, Севастопольский, Ялтинский и Керченский участки).
Кроме того, в состав района СНиС входили подразделения: электролинейная служба (линейно-ремонтная рота и подводно-кабельная партия), узел связи (приемные и передающие открытые центры), центральная телефонная станция, военная голубиная станция. Органом управления являлся штаб района СНиС. С момента прорыва врага на полуостров и последующего отхода под давлением противника наших частей из Одесской военно-морской базы район СНиС "развернул свои мобилизационные календари, то есть перешел на структуру перестройки обеспечения связи непосредственно
в обороне Севастополя" [8].
Семь постов СОР было организовано с учетом полного просмотра морского подхода к Главной военно-морской базе и действий противника на сухопутном участке фронта.
Для лучшего освещения обстановки по всей дуге Севастопольского фронта выделили три береговых участка на переднем крае обороны и морской участок, расположенный вдоль морского побережья между Балаклавой и Бельбекской долиной. На центральном командном пункте (ЦКП) была организована дежурная служба (ДС), которая руководила деятельностью постов, освещала обстановку и вела специальную карту, проводила доклады ответственного дежурного (ОД) флота и ОД Приморской армии по донесениям постов. ДС имела прямые связи с постами вдоль побережья, а также с техническими постами наблюдения охраны водного района (ОВРа) Главной базы. На организацию этих постов поступил личный состав отошедших в Севастополь Евпаторийского и Ялтинского участков СНиС.
Шумопеленгаторная станция ОВРа Главной базы (в районе Херсонеса) с аппаратурой, размещенной в здании маяка, имела достаточно хорошие тактико-технические данные. С помощью этой станции удавалось обнаруживать работу механизмов подводных и надводных кораблей, а также торпедоносцев противника.
По мнению М.А.Добрушина, бывшего начальника штаба района СНиС, "принятая в обороняющейся Главной военно-морской базе система наблюдения, в которую входили посты СНиС, шумопеленгаторные станции, теплопроводные станции на Константиновском равелине и Херсонесском маяке, посты наблюдения за воздушным десантом и посты наблюдения за минными постановками, объединенные в одну систему центрального управления, были серьезным подспорьем в понимании обстановки на Севастопольском плацдарме военных действий и полностью себя оправдали" [8].
С другой стороны, бывший начальник связи ПВО флота В.С.Десна отмечал, что служба наблюдения, находясь на защищаемом севастопольцами маленьком клочке земли, чисто технически не могла оперативно обнаруживать противника и передавать информацию, согласно которой в воздух поднималась истребительная авиация. По его мнению, "главная тяжесть в решении этой задачи легла на две радиолокационные станции РУС‑2, располагавшиеся одна в бухте Круглая, другая на мысе Фиолент" [8].
Командный пункт (КП) ПВО имел со всеми соединениями связь как по радио (для оповещения о воздушном противнике), так и проводную. Проводные средства использовались между КП частей ПВО и батарей.
Что касается воздушного противодействия противнику, то следует заметить, что КП 62-й истребительной бригады ВВС территориально находился там же, где КП ПВО. Связисты батальона, обслуживающего штаб ВВС, решали две группы задач: первая – обеспечение командных пунктов проводной связью с тем, чтобы вовремя получать приказы с КП флота и КП полка; вторая – обеспечение надежной радиосвязью самолетов-истребителей. О том, в каких условиях, пришлось работать связистам авиации, вспоминал бывший старший радиотехник 9-го ИАП ВВС И.П.Кудрявцев. По его словам, все довоенные истребители, выпущенные нашей промышленностью, на борту не имели радиостанций. "В этих трудных условиях, здесь в Севастополе, пришлось своими силами оборудовать эти самолеты.
Первые радиостанции, назывались они РСИ‑3, были батарейного типа. Питание осуществлялось от батарей БА‑60, и стояли две баночки аккумулятора НТН‑10. Чтобы иметь бесперебойную связь, на земле радиотехникам, механикам нужно было так продумать организацию электропитания, чтобы в полете радиостанция не отказала" [8].
В целом характеризуя связь в СОР, нельзя не отметить, что были приняты беспрецедентные меры, направленные на повышение ее живучести. В случае потери приемных и передающих радиоцентров предусматривалось изменение схемы организации СОР. Эта схема "была доложена начальнику связи флота Громову на Кавказ" с просьбой гибко подходить к приему сигналов из Севастополя и оказывать необходимую помощь [8].
В период обороны, особенно с мая 42-го, большие усилия потребовались для рассредоточения технических средств радиосвязи, их укрытие от воздействия противника.
Для всех служб связи был проработан порядок действий в критических ситуациях. Личный состав был нацелен "на быструю замену один другого без особых сокращений связи и радиообмена вообще". В отношении восстановления разрушений кабельных линий связи, наносимых противником, и особо в период штурмов, "действовала формула: что за день разрушено, за ночь должно быть восстановлено" [8]. В этих условиях исключительный героизм проявляли гражданские и военные кабельщики. По воспоминаниям очевидцев, предельное напряжение для них настало в период третьего наступления немцев на Севастополь (июнь 1942 г.). "Авиация противника производила массированные налеты на город, непрерывно, ежедневно с 4 до 21 часа с числом сбрасываемых бомб, не поддающимся учету. Однако в этих тяжелых условиях все повреждения оперативных абонентов устранялись к 4 утра" [8].
Обстановка в период обороны города неоднократно складывалась такая, что военным и гражданским связистам, кроме выполнения своих основных обязанностей, приходилось участвовать в боевых действиях. Особенно много таких случаев имело место в июне 42-го.
Например, 19 июня группа связистов района СНиС, выполняя задание по обеспечению связью воинских частей, занимавших оборону на Мекензиевых горах, одновременно вела в течение двух суток бой с гитлеровцами, просочившимися в бухту Голландия. В казармах этой бухты находился коммутатор ЦБ 100 × 2, который поддерживал связь частей из штаба Приморской армии, расположенных на Северной стороне. Этот командно-измерительный пункт (КИП) контролировал также кабельную емкость перехода через Северную бухту.
Обслуживание КИП и телефонной станции было возложено на Севастопольский район СНиС. В эту группу входили также связисты Приморской армии и гражданские телефонистки.
В последние дни июня 42-го, наиболее драматический период обороны города, происходила реорганизация связи, предусматривавшая передислокацию оборудования.
Вопрос о том, как это было, требует отдельного исследования и формирования научно-обоснованной картины происходившего. Анализ информации из воспоминаний ветеранов-очевидцев событий показал, что многое не стыкуется. Поэтому на данный момент можно привести только некоторые сведения, не претендующие на высокую достоверность.
На рассвете 26 июня наши части отходили под воздействием противника, который уже вышел к тому времени на Северную сторону. Связистам пришлось оставить защищенный приемный центр в Инкерманском монастыре и полностью перевести приемные радиовахты на ЦКП в штольню АТС-175. Враг продвигался, и защищенный передающий центр мог оказаться захваченным. Поэтому было отдано распоряжение о демонтаже центра и вывозе материальной части в район 35-й береговой батареи (ББ). В 2 часа ночи 29 июня это распоряжение было выполнено полковником Бибиком и начальником передающего центра капитан-лейтенантом Селивановым, а личный состав перешел на запасный передающий центр, откуда и продолжил работу по обеспечению связи СОР. Об этом сообщили начальнику связи флота, а также закрыли ряд связей, которые тогда Севастополю были уже не нужны, передав их на запасной командный пункт (ЗКП) в г. Туапсе.
Приказ о начале вывоза дополнительных радиосредств на 35-ю ББ был получен 28 июня, старшим назначили офицера отдела связи флота Б.Д.Островского. По его воспоминаниям, "была выделена грузовая автомашина, человек 8 или 10 радистов и телеграфистов, материальная часть; было приказано между 18–19 часами быть на 35‑й батарее, развернуть примерно шесть радиовахт для связи с основными направлениями; <…> мы благополучно прибыли, <…> своевременно развернули связи, установили связь со ставкой Верховного Главнокомандования, с Краснодаром; прибыл командующий флотом, весь военный совет, прибыл начальник связи СОР" [8]. Переезду командного состава с ФКП на 35-ю ББ предшествовала передача сообщения по аппарату Морзе о готовности средств связи на ЗКП.
К этому времени у защитников города стали заканчиваться боеприпасы. По воспоминаниям М.А.Эпштейна, около 23 часов 30 июня из Ставки Верховного Главнокомандующего была получена шифрограмма о том, что Севастополь сыграл свою историческую боевую роль и что военному совету разрешено переместиться на Кавказ.
О предстоящей трагедии ни военнослужащие, ни местные жители не догадывались. Как вспоминал потом кабельщик А.И.Буйлов, тогда молодой паренек, "настроение было бодрое, и, несмотря на то, что фронт все ближе придвигался к городу, все мы считали, что город немцы не возьмут" [9]. Но утром 30 июня линейные монтеры, выйдя на устранение повреждений кабеля, обнаружили, что по всем парам в распределительном шкафу пропал зуммер готовности. Только тогда они узнали, что АТС не работает, бои идут в городе, и руководство СОРа во главе с командующим ЧФ Октябрьским уже покинуло основной командный пункт (ФКП), находившийся в защищенном сооружении АТС, и переехало на ЗКП на 35-й ББ. Туда же подтягивались все отступавшие войска, теснимые противником.
30 июня к срочной работе по переключению линий связи на ЗКП, осуществляемой военными связистами Приморской армии, присоединились гражданские линейные монтеры. Из воспоминаний гражданских связистов следует, что в последние дни обороны "центр города (вернее, весь город, кроме окраины) был пуст" и, казалось, что "кроме связистов, в городе никого не было: идет группа связистов по абсолютно пустому городу".
30 июня утром на старом ФКП осталась оперативная группа во главе с начальником штаба СОРа капитаном 1-го ранга Васильевым и гражданские связисты. Весь этот день прошел в переключении связей ЗКП на 35-ю батарею. Многие городские связи уже были не нужны, поэтому постепенно их начали выключать. В полдень 30 июня бои уже шли в районе Малахова кургана, на Куликовом поле, вдоль Лабораторного шоссе – на расстоянии менее одного километра от станции. Начальник АТС П.А.Лунев, обсудив в 15:00 текущую обстановку с секретарем горкома ВКП(б), председателем городского комитета обороны Б.А.Борисовым, получил разрешение на уничтожение объекта. С этим решением согласился остававшийся на объекте начальник штаба СОРа Васильев. Немцы, видимо, знали, где расположен штаб, и вход на ФКП находился под постоянным пулеметным обстрелом.
Прибывшим по приказу начальника АТС на уничтожение объекта линейным монтерам, "где согнувшись, а где ползком по запасным ходам сообщения", удалось проникнуть на объект. Вместе с техниками станции кувалдами и кирками они разбили оборудование всех трех залов АТС. Не уничтожили только кросс, так как через него шли связи на 35‑ю батарею.
После этого дизелисты с затонувшего теплохода "Абхазия", которые после гибели корабля обслуживали дизельную электростанцию на АТС, выпустили из запасных резервуаров 16 т солярки и забросали вход в ФКП связками гранат. На АТС запылал пожар. В это время немцы находились совсем рядом – на другой стороне Южной бухты и справа у вокзала.
После того, как командование флота убыло, старшим морским начальником был назначен капитан 3‑го ранга Ильичев из штаба флота. ЗКП продолжал держать связь с Новороссийском. Последняя радиограмма из Новороссийска предписывала кораблям и подводным лодкам, находящимся в море, идущим в Севастополь, "освободиться от груза, от боезапаса и других грузов, которые везли в Севастополь, подойти к 35‑й ББ и забрать людей". Оставался специалист открытой связи старший лейтенант Гусаров, он эту телеграмму расшифровал и "всем стало все ясно" [8].
Подводя итог, следует привести слова Б.Д.Островского, который в составе группы офицеров отдела связи во главе с В.С.Гусевым участвовал в обороне Севастополя с первого до последнего дня: "Насыщенность связи, которая была во время обороны Севастополя, была очень большой, и, несмотря на то, что у нас не было достаточного количества техники, достаточного количества материальной части, благодаря правильному маневрированию средствами связи и правильной организации связи все-таки связь <…> выполнила свои задачи" [8].
ЛИТЕРАТУРА
Пересыпкин И.Т. Связисты в годы Великой Отечественной. – М.: Связь, 1972.
Связь на Украине в годы Великой Отечественной / Сост.: Н.А.Борисова, Н.И.Лосич, О.В.Фролова и др. – СПб.: Центральный музей связи имени А.С.Попова. 2013. 464 с.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 309.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 302.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 305.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 536.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 513.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 307.
ЦМС. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 310.
Отзывы читателей

 eng
eng